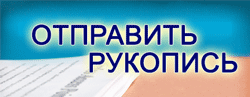SWOT-анализ: дистанционный мониторинг артериального давления
- Авторы: Демкина А.Е.1, Коробейникова А.Н.2, Рогоза А.Н.3, Владзимирский А.В.1
-
Учреждения:
- Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
- Центр кардиологии и неврологии
- Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова
- Выпуск: Том 5, № 2 (2024)
- Страницы: 303-317
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 28.08.2023
- Статья одобрена: 12.12.2023
- Статья опубликована: 20.09.2024
- URL: https://jdigitaldiagnostics.com/DD/article/view/568899
- DOI: https://doi.org/10.17816/DD568899
- ID: 568899
Цитировать
Аннотация
В связи с глобальными политическими и социально-экономическими изменениями система здравоохранения испытывает огромную нагрузку. Переход на новый уровень оказания медицинской помощи требует внедрения современных технологических решений. Ускоренное развитие инноваций в медицине и формирование персонализированного подхода позволит повысить качество и доступность медицинских услуг.
Одним из направлений развития здравоохранения является использование цифровых технологий и применение дистанционного мониторирования для оценки показателей здоровья граждан. В настоящее время на территории Российской Федерации реализуется Федеральный проект дистанционного наблюдения за пациентами с артериальной гипертензией «Персональные медицинские помощники». Как и любая новая технология, дистанционное мониторирование имеет свои преимущества и недостатки. В данной статье проведён стратегический анализ (SWOT-анализ), а также рассмотрены медицинские, экономические, социальные и политические аспекты, которые могут оказать влияние конечный результат федерального проекта. Для эффективного внедрения в практику технологии дистанционного мониторирования требуется акцентуация сильных и проработка слабых сторон как в системе здравоохранения, так и в государстве в целом. Проведённый SWOT-анализ может быть использован для построения дальнейшей стратегии широкого использования в клинической практике новых цифровых технологий.
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Современная система здравоохранения на настоящий момент испытывает колоссальную нагрузку. Это обусловлено как социально-демографическими факторами (сокращение количества лиц трудоспособного возраста, старение популяции, рост числа граждан с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний), так и экономическими аспектами (экономическая нестабильность, дефицит кадрового состава в медицинских учреждениях) [1–4].
Поиск решений, которые могут нивелировать часть современных вызовов, связан с научно-техническим прогрессом в медицинской науке и системе здравоохранения. Цифровая трансформация отрасли требует принципиально новых подходов к организации медицинской помощи [5]. Дистанционный мониторинг, в основе которого лежит автоматическая передача данных о состоянии здоровья пациента, является одним из ключевых технических решений, способных обеспечить задачу персонифицированной медицины [6]. Реализация на практике широкого внедрения новых технологий удалённого мониторинга относится к стратегическим задачам системы здравоохранения, так как позволяет влиять на факторы риска хронических неинфекционных заболеваний [7–11].
SWOT-анализ (Strengths — сильные стороны, Weaknesses — слабые стороны, Opportunities — возможности, Threats — угрозы) — универсальный инструмент для проведения стратегического анализа. Метод применяется во всех секторах экономики (предпринимательские, некоммерческие и государственные организации) для оценки брендов, продуктов или проектов. Одним из главных преимуществ SWOT-анализа является возможность совместного изучения внешней и внутренней среды, установления связи между сильной и слабой сторонами, а также оценки существующих внешних угроз и возможностей [12].
Артериальная гипертония (АГ) хорошо известна и как одна из распространённых патологий, и как один из важных модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [4]. Распространённость АГ в Российской Федерации остаётся на стабильно высоком уровне и составляет, по данным исследований, 40–45%. Наблюдаемое в настоящее время демографическое старение российской популяции может способствовать ещё большему увеличению числа больных АГ [3]. Эпидемиологические исследования по изучению АГ в России, проведённые в период 2010–2020 гг., выявили ряд не решённых до сегодняшнего дня организационно-медицинских проблем: отказ пациентов от приёма лекарственных препаратов, отсутствие достижения целевого уровня артериального давления (АД) на фоне лечения антигипертензивными препаратами, низкий уровень мотивации и контроля уровня АД в сельской местности [2].
При этом успешный контроль за показателями АД признан одной из наиболее эффективных профилактических стратегий по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями1. Данные метаанализа 61 рандомизированного клинического исследования продемонстрировали, что снижение АД даже на 2 мм рт.ст. сопровождается уменьшением смертности от инсульта и ишемической болезни сердца, а при эффективном и своевременном лечении АГ можно было бы сохранить около 30% жизней людей [13].
Проблема эффективного контроля уровня АД со стороны пациентов является общемировой [14]. В большинстве стран мира предполагают, что основными причинами неполноценного контролирования заболевания являются низкая приверженность больных к лечению, а также нерегулярность или полное отсутствие контактов с медицинскими работниками по вопросам терапии АГ [15]. Низкая приверженность антигипертензивной терапии не только не позволяет достичь целевых уровней АД, но и приводит к увеличению частоты госпитализаций, их длительности и, следовательно, увеличению расходов системы здравоохранения [8].
В связи с реализацией на территории Российской Федерации масштабных проектов по внедрению дистанционного мониторинга АД авторами статьи представляется важным проведение SWOT-анализа данной стратегической задачи.
S — СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Целесообразность дистанционного мониторинга пациентов c сердечно-сосудистыми заболеваниями с помощью портативных устройств объясняется их практичностью и доступностью, компактностью и удобством при пролонгированном использовании. Помимо этого, удалённое отслеживание состояния пациентов осуществляется в комфортных для них условиях (домашних), при этом обеспечивает незамедлительное оповещение о событиях, требующих срочной медицинской помощи или госпитализации [7]. Некоторые портативные устройства не требуют очного визита пациента для обслуживания: контролировать функционирование изделий можно дистанционно, что важно при их использовании лицами, проживающими в регионах, отдалённых от крупных городов с развитой кардиологической службой, в том числе в сельской местности [9]. Применение телемедицинских технологий даёт ряд преимуществ: простота планирования наблюдения, мониторинга и лечения заболеваний [16], а также более непосредственное общение между врачом и пациентом [17].
Пациенты, прибегающие к использованию дистанционных технологий, лучше видят и понимают взаимосвязь между своими ежедневными действиями — рационом, режимом сна, приверженностью к назначенному лечению — и состоянием собственного здоровья. Применение телемедицинских технологий позволяет пациентам отслеживать и фиксировать показатели своего состояния. Это, в свою очередь, помогает повысить осознанность человека и привлечь его к заботе о собственном здоровье [18, 19]. Возможность длительного наблюдения, долгосрочный контроль со стороны медицинского персонала, повышение уровня грамотности пациентов в медицинских вопросах, удобный способ коммуникации, не требующий очного визита — всё это говорит о преимуществах использования телемедицинских технологий для граждан [20, 21].
Помимо этого, внедрение удалённого мониторинга делает медицинскую помощь более доступной для жителей отдалённых районов [22]. Специалист системы здравоохранения (врач, фельдшер) получает достоверное представление о ежедневной активности и поведении пациента, что позволяет оперативно вносить корректировки в выбранный режим лечения [23]. Исследователи также отмечают, что показания АД в домашних условиях более приближены к реальным: исключается стресс от нахождения в медицинском учреждении и синдром белого халата [24].
Медицинские учреждения, работающие с дистанционными технологиями, имеют ряд преимуществ: они демонстрируют более высокие показатели по количеству пациентов, которым оказана помощь; по уровню удовлетворённости качеством помощи; по количеству площадей в организации, освобождённых в результате налаживания процессов удалённого консультирования. Хотя прямой краткосрочной экономической связи доказано не было, однако в долгосрочной перспективе рентабельность таких решений очевидна [19, 24, 25].
В ряде зарубежных исследований показана экономическая целесообразность телеметрической передачи результатов самоконтроля уровня АД [26–29]. Отечественными авторами проведена попытка оценки потенциального моделирования социально-экономического эффекта от внедрения дистанционных технологий у пациентов с повышенным АД. Результаты математических расчётов продемонстрировали, что, условно, в регионе с численностью населения 1 млн при 30% охвате таким мониторингом за 5 лет удалось бы спасти более 600 жизней, а при 90% охвате — уже порядка 2000 жизней [30].
Имеются данные и об экономической выгоде для самих пациентов: как для мужчин, так и для женщин самоконтроль АД более эффективен, чем обычное лечение (при условии, что эффект снижения сохранялся не менее 2 лет для мужчин и 5 лет для женщин) [20]. Важно, что длительное мониторирование не было связано с неблагоприятным воздействием на качество жизни [31]. Другие исследования также показывают, что при краткосрочном использовании экономический эффект от дистанционных технологий может варьировать, но становится очевидным на временном горизонте от 2 лет [19, 20].
Таким образом, преимуществами дистанционного мониторирования при АГ являются возможности тщательного контроля АД и повышение доступности медицинской помощи для жителей отдалённых районов, что экономически выгодно как для пациентов, так и для медицинских учреждений в долгосрочной перспективе.
W — СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
Несмотря на все преимущества применения дистанционного мониторинга, накопленный опыт реальной практики использования цифровых технологий для контроля уровня АД выявил слабые стороны, что необходимо учитывать при масштабировании уже реализуемых и будущих проектов.
Значимую ограничивающую роль в применении методик дистанционного наблюдения оказывает низкий уровень технологической грамотности пациентов. Многие больные недостаточно знакомы с современными возможностями, чтобы использовать их в повседневной жизни [32]. Особенно это актуально для лиц пожилого возраста, что подразумевает необходимость обучающих тренингов для расширения когорты пациентов, понимающих цель использования технологий дистанционного мониторинга и активно их применяющих [31].
Во многом эффективность внедрения новых технологий определяется личностными характеристиками пациентов и их эмоциональным профилем [33]. Так, в университете Пенсильвании было проведено исследование, в ходе которого были выделены фенотипы взаимодействия пациента с системой дистанционного мониторинга АД. Было выделено 3 основных стиля поведения пациентов:
- «энтузиаст», который, как правило, отправлял без подсказки сообщения с большим количеством слов (10,9%);
- «студент», который взаимодействовал с системой дистанционного мониторинга периодически (22,6%);
- «минималист», который включался только тогда, когда ему напоминали (66,5%).
Статистическая взаимосвязь между стилем взаимодействия и достижением целевого уровня АД наблюдалась только в группе «минималистов» (p <0,001) [34].
Бельгийское исследование, изучающее приверженность беременных женщин с артериальной гипертензией к дистанционному мониторингу, показало влияние уровня тревоги и депрессии на комплаенс пациентов (использовались опросники PHQ-9 и ECR-R). Женщины со средним уровнем приверженности показали более высокие уровни тревоги и депрессии, тогда как в группах с хорошей и чрезмерной приверженностью таких взаимосвязей найдено не было [35].
Для многих пациентов оказывается важным вопрос безопасности персональных данных. Отдельные категории людей отказываются от технологий отслеживания биометрических данных, опасаясь за сохранность личной информации. В некоторых случаях у пациентов, всё же решившихся на применение трекеров, отмечаются признаки повышенной тревожности и депрессии [36].
Ряд авторов полагают, что потеря межличностного контакта может являться ограничением для широкого распространения дистанционного мониторинга [37]. В ранее проведённых исследованиях пациенты высказывались о важности для себя таких элементов коммуникации, как возможность прийти на приём, обратиться непосредственно к врачу, задать вопросы [38]. Пассивная роль пациента в процессе дистанционного мониторинга также является одним из рисков, что хорошо заметно при отсутствии адекватной и своевременной реакции со стороны медицинских работников на плохой контроль за уровнем АД [39].
Большую роль в приверженности пациентов к мониторингу играет время дистанционного наблюдения. В коротких программах практически 80% из 1662 пациентов демонстрировали значительную приверженность к мониторингу, а 87% из них посчитали такой вариант наблюдения полезным и удобным [40]. При длительном наблюдении количество активных пациентов уменьшается: в обсервационном клиническом исследовании с программой Hello Heart начиная с 3 месяцев до года около половины пациентов прекратили вносить данные в электронный дневник [41]. В отечественных работах была выявлена похожая зависимость: использование ручных способов передачи результатов измерений ассоциируется с низкой приверженностью пациентов к дистанционному наблюдению [42, 43]. Доля отказов от мониторинга в вышеуказанных исследованиях превысила 50%, а наибольшее их количество пришлось на первые 1,5–3 месяца мониторинга.
Исследования демонстрируют, что пациентам требуется серьёзная поддержка со стороны медицинского персонала, чтобы они могли самостоятельно и стабильно использовать телемедицинские технологии [16]. Кроме того, среди пациентов возникают проблемы, связанные с пониманием и применением правил дистанционного мониторинга [44], выявляется самолечение, что влечёт за собой значительные угрозы здоровью [24].
Помимо ограничений в использовании технологий удалённого наблюдения со стороны пациента, существуют слабые стороны управления процессами в системе здравоохранения и управления человеческим капиталом.
По данным отечественных исследований, врачи амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения с недоверием относятся к широкому внедрению дистанционного мониторинга, что в первую очередь связано с отсутствием практического опыта в данной области. Так, в исследовании А.М. Калининой и соавт. приняло участие 93 врача из 6 поликлиник г. Брянска [45]. Проведённый опрос показал, что наиболее сложными для врачей оказались вопросы, касающиеся организационной структуры дистанционного наблюдения — более 1/3 (34,4%) врачей не смогли выразить своего отношения к целесообразности создания отдельной структуры для осуществления дистанционного диспансерного наблюдения, в то время как этот вопрос в настоящее время обсуждается. Неудивительно, что практическим врачам пока неясны функции такой организационной структуры. Опрос позволил выявить барьеры и препятствия, которые, по мнению врачей, могут возникнуть, если встанет вопрос о широком внедрении диспансерного наблюдения с дистанционным контролем. Так, большинство респондентов (80,6%) в качестве таких барьеров назвали нехватку времени для проведения наблюдения, 44,1% — экономические причины (стоимость оборудования), 45,2% — технические трудности, 39,8% — сложности обучения пациентов и неуверенность в надёжности способа сбора и передачи информации.
Низкая цифровая грамотность и готовность медицинских кадров была выявлена и в ряде зарубежных стран. В исследовании R.J. Shaw и соавт. были названы факторы, снижающие готовность к принятию технологии среди медицинских сестёр: дополнительная рабочая нагрузка, необходимость интеграции в существующие рабочие процессы, дополнительные контакты с пациентами, нехватка кадров [25]. Кроме того, врачи предполагают, что использование телемедицины приведёт к увеличению нагрузки в долгосрочной перспективе [19, 24, 46]. Практикующие специалисты высказывают опасение, что стоимость предоставления услуг удалённого наблюдения будет превышать возмещение со стороны страховых компаний [46] и экономическая выгода будет нивелироваться [21]. Существует также угроза, что внедрение такой технологии приведёт к размытию профессиональных ролей в лечебной среде [18].
Помимо ограничений в области человеческих ресурсов, значительным ограничивающим фактором, мешающим дальнейшему развитию информационных технологий в области диспансерного наблюдения, является экономический блок.
В частности, проблемой при внедрении дистанционных технологий в клиническую практику могут быть высокая стоимость девайсов и необходимость обучения медицинского персонала работе с данными устройствами. Кроме того, важно акцентировать внимание на несовершенстве регламентирующих документов, отсутствии обобщённых рекомендаций по использованию удалённых методов наблюдения [10]. Слабой стороной также является низкая активность страховых компаний в оплате телемедицинских услуг по мониторингу АД [39].
Для развития технологии дистанционного мониторинга необходимо учитывать ещё одну слабо проработанную область — время и трудозатраты врача на регулярный просмотр результатов анализов, выполняемых пациентами на дому, и на дистанционное общение врача с пациентом в рамках мониторинга. Кроме того, увеличение трудозатрат врача происходит и за счёт обучения пациентов пользованию мобильными приложениями. Этот вопрос требует изменений со стороны организации рабочего времени, изменения системы обязательного/добровольного медицинского страхования или проработки новых форм финансирования со стороны лечебного учреждения [22].
Третья группа слабых сторон дистанционного мониторинга АГ включает проблемы методологического характера. Самым сложным вопросом, который не решён до сих пор, является диагностика АГ «белого халата» и маскированной АГ методами офисного или домашнего измерения АД. Исследование PAMELA показало согласованность в показателях домашнего и амбулаторного (24-часового) измерения АД [47]. При этом в другом исследовании различия в диагностике АГ «белого халата» при домашнем и амбулаторном мониторировании были выявлены у 13% участников [48]. Что касается маскированной гипертензии, то только 57% и 45% пациентов с АГ, установленной на основании повышенного систолического и диастолического уровней АД соответственно, имели такие же показатели по результатам домашнего мониторирования АД. Тем не менее было выявлено расхождение в уровнях систолического и диастолического АД в 23% и 30% соответственно [49]. Исследователи делают вывод, что домашнее мониторирование АД будет подтверждающим при повышении «офисного» АД, а в диагностике маскированной АГ или АГ «белого халата» наибольшую пользу принесёт амбулаторное мониторирование [49]. Выявленные случаи несогласованности в результатах не говорят о том, что один метод уступает другому. При кажущемся сходстве они оценивают разные аспекты профиля АД [50, 51]. По данным J. Barochiner и соавт., диагностика маскированной АГ по данным домашнего мониторирования минимальна из-за невоспроизводимости «офисных» измерений (коэффициент каппа Коэна составил κ=0,19; 95% доверительный интервал 0,0002–0,38; p=0,02) [52].
Пока нет чётких рекомендаций, как поступить врачу при расхождении показателей «офисного» и «домашнего» АД: здесь возможно назначение как избыточной, так и недостаточной терапии, это не столько ограничение телемедицинских технологий, а методологический аспект диагностики АГ. Необходима стандартизация методики домашнего мониторирования АД и отчётности для предотвращения предвзятости в оценке данных и искажения информации [53].
Важным условием для принятия решения о назначении терапии является уверенность в том, что в домашних условиях производится достоверная оценка АД. Существуют риски некорректного измерения АД из-за технических погрешностей и неисправности тонометра. Именно поэтому требуется его обязательная валидизация и проверка точности, а также сопоставление показаний прибора и данных измерений, выполненных обученным медицинским работником. Помимо важности технической исправности самого тонометра, необходимо использовать манжету соответствующего размера. По данным NHANES, 51% взрослого населения в США, в том числе 65% лиц в возрасте 18–34 лет и 84% лиц с ожирением, нуждались в больших и очень больших манжетах [54–56].
Таким образом, технология дистанционного мониторинга АГ имеет свои слабые стороны. Низкий уровень цифровой грамотности, недоверие новым технологиям и желание остаться в прежней системе отношений с врачом ограничивают широкое внедрение данной методики среди пациентов. Кроме того, существует сопротивление со стороны медицинских работников: опасения по поводу повышения временных и трудовых затрат на дополнительный объём работы заставляет их с недоверием относиться к возможности широкого применения дистанционного мониторинга. Методологические и технические трудности применения удалённого наблюдения за пациентами с АГ заставляют медицинское сообщество пока сдержанно относиться к данной технологии.
О — ВОЗМОЖНОСТИ
Несмотря на все слабые стороны, удалённый мониторинг показателей АД у пациентов с сердечно-сосудистой патологией показал обнадёживающие результаты: значимое сокращение частоты и длительности госпитализаций, снижение смертности, улучшение показателей контроля АД по сравнению с обычным лечением и наблюдением. В исследовании TEN-HMS (Великобритания, Германия и Нидерланды) смертность пациентов в контрольной группе в течение одного года составила 45%, в то время как в группе удалённого мониторинга данный показатель оказался равным 29%, а в группе структурированной телефонной поддержки — 27% [10]. Целью метаанализа 46 рандомизированных клинических исследований было изучение эффективности дистанционного мониторинга АД по сравнению с обычной практикой ведения АГ. Результаты работы показали, при дистанционном мониторинге уровни «офисного» систолического и диастолического АД снижались на 3,99 мм рт.ст. (p <0,001) [11]. Достижение лучшего контроля систолического АД при использовании системы удалённого мониторинга было показано в рамках исследования Home BP (Великобритания). Средняя разница в систолическом давлении составила 3,4 мм рт.ст. (95% доверительный интервал 6,1–0,8; p <0,05) [57].
В исследовании М.Г. Бубновой и соавт., включавшем 342 пациента с АГ, в группах больных с использованием дистанционного наблюдения определялись статистически значимые преимущества по количеству вызовов скорой и неотложной помощи, количеству госпитализаций, времени нахождения на больничном листе. Через 12 мес в основной группе целевой уровень АД был достигнут у 92,2% пациентов, в контрольной группе — лишь у 43,3% [58].
Использование методов удалённого мониторинга позволит накопить большие массивы информации о пациентах. Использование больших данных и интеллектуальных компьютерных систем будет оказывать всё большее влияние на устоявшиеся подходы в медицине [59, 60]: сбор информации, обобщение данных и обратная связь с клиницистом будут автоматизированы. Сбор больших данных с разных гаджетов, формирование трендов за счёт машинного обучения и анализа витальных и географических характеристик на протяжении длительного времени будут способствовать более чёткому пониманию развития сердечно-сосудистых заболеваний в популяционном масштабе [61].
В перспективе возможно совершенствование систем дистанционного мониторинга: они станут более адаптивными и гибкими. Например, если у пациента выявлены какие-либо проблемы с исполнением схемы дистанционного наблюдения, то активируется поведенческий модуль, который подстраивается под пациента и помогает ему преодолеть трудности. Алгоритмы медикаментозных назначений также могут быть автоматизированы: большой массив информации позволит анализировать ситуацию и принимать решение здесь и сейчас [62].
Широкое внедрение удалённого мониторинга в систему здравоохранения Соединённых Штатов Америки и стран Европы позволяет говорить о его эффективности (как экономической, так и клинической) в долгосрочной перспективе. Применение телемедицинских технологий даёт возможность более качественно управлять здоровьем и рационально тратить ограниченные медицинские ресурсы:
- сокращение времени на повторные визиты к врачу и сроков подбора эффективной антигипертензивной терапии;
- повышение эффективности контроля АД при АГ и связанное с этим снижение числа осложнений;
- сокращение сроков пребывания в стационаре при госпитализациях, связанных с осложнениями АГ;
- внедрение технологии в отдалённых регионах России и в условиях хронического дефицита медицинских кадров;
- повышение доступности и качества оказания медицинской помощи маломобильной и немобильной группам населения [40].
T — УГРОЗЫ
В процессе внедрения дистанционного мониторинга были выявлены угрозы, ограничивающие его широкое использование в медицинской практике.
Развитие дистанционного мониторинга подразумевает насыщение системы здравоохранения передовыми решениями, современными технологическими разработками. Однако нынешняя геополитическая ситуация диктует свои условия. Ранее большое количество продуктов информационных технология (IT) и их комплектующих поставлялось из-за рубежа, что было гораздо выгоднее, чем развитие собственных производств с длительным периодом окупаемости. Именно поэтому в условиях санкций Россия оказалась в крайне невыгодном положении из-за неразвитой собственной IT-инфраструктуры. Крупнейшие западные гиганты сферы информационных технологий, такие как Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, Adobe, SAP, Intel, AMD2 ограничили или полностью прекратили деятельность в нашей стране. По мнению преподавателя школы IT-менеджмента Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Дмитрия Пшиченко, основные риски сейчас находятся в области информационной безопасности и ремонта: большинство западного программного обеспечения носит облачный характер, а покупка комплектующих для ремонта сильно затруднена. Безусловно, данная ситуация скажется на развитии цифровых технологий в медицине3.
Помимо проблем с программным обеспечением, в России есть и кадровый дефицит в сфере IT. Вице-премьером Дмитрием Чернышенко озвучено, что нехватка IT-специалистов составляет 1 млн человек4, а по прогнозам к 2027 году может достичь 2 млн человек. Это обусловливает определённые препятствия для быстрого развития IT-индустрии, в частности в системе здравоохранения.
Экономические проблемы и нехватка ресурсов также могут обусловливать задержки в темпах развития цифровизации. По оценке Высшей школы экономики, внутренние затраты отрасли здравоохранения на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг составили в 2019 г. 39,5 млрд руб., что представляет 1,6% валовой добавленной стоимости отрасли. Сопоставление с объёмом затрат показывает, что доля расходов на цифровизацию отрасли не превышает 0,6–0,7% [63].
В структуре затрат расходы на цифровизацию здравоохранения, среди всех видов экономической деятельности, в 2021 году занимали 2,6%. Доля сектора здравоохранения в затратах организаций России на цифровизацию увеличилась за последние два года незначительно: в 2019 году она составляла всего 1,6%, в 2020-м — 2,2%.
Определённую степень дискредитации технологии дистанционного мониторинга вносят вопросы кибербезопасности. Телемедицина подразумевают накопление больших массивов данных, которые нужно определённым образом хранить, не допуская попадания этой информации в открытые источники. Данные пациентов могут попадать в руки мошенников и использоваться в преступных целях5.
По данным «Лаборатории Касперского», 54% медицинских учреждений используют устаревшее программное обеспечение. Данная ситуация связана с высокой стоимостью обновлений и проблемами совместимости старых и новых систем. Без обновлений повышается уязвимость системы перед кибератаками, злоумышленники могут попадать в корпоративную структуру и использовать полученные базы данных в своих целях. огласно статистике, из-за повышенной уязвимости медицинских систем в России сталкивались с утечками данных 32%, 32% — с DDoS-атаками, 30% — с атаками программ-вымогателей6. Возможные угрозы информационной безопасности подробно приведены в работе Т.И. Булдаковой и соавт. [64]: утечка информации может происходить практически на любом этапе — от собственно датчика и облачной медицинской информационной системы до медицинского персонала и пациента. Кроме того, лавинообразное развитие мобильных технологий и m-health привело к появлению огромного количества приложений для телефонов и готовых беспроводных устройств, подавляющее большинство которых не прошли сертификацию [65, 66], поэтому не могут использоваться как медицинские устройства, в том числе и из-за несоблюдения правил кибербезопасности (возможно использование таких приложений только со стороны пациента) [67].
Определённые сложности при использовании дистанционного мониторинга возникают при удалённой идентификации пациента. Точное и надёжное определение личности пациента, у которого действительно проводится мониторирование показателей, представляет определённые затруднения. Именно поэтому удалённое наблюдение не может быть использовано в экспертных и сомнительных ситуациях, а ответственное использование приборов становится обязанностью самого пациента [68].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для широкого внедрения технологий дистанционного мониторинга в нашей стране требуется масштабная проработка угроз, и это касается не только отрасли здравоохранения. Развитие медицины идёт в ногу с развитием IT-технологий в нашей стране. Невозможно отделить цифровизацию в медицине в какую-то отдельную отрасль, она неразрывно связана с внешними и внутренними факторами, испытывает на себе влияние политических, экономических и социальных аспектов. Хотя, безусловно, специфика медицинской отрасли (персональные данные, медицинская тайна) накладывает индивидуальный отпечаток, однако база для развития IT-технологий в России едина.
Проведение SWOT-анализа предполагает построение дальнейшей стратегии, для чего, согласно модели Вайхриха, прогнозируется взаимодействие факторов из разных квадратов:
- сильные стороны — возможности;
- силы — угрозы;
- слабости — возможности;
- слабости — угрозы.
Комплексный подход позволит более органично встроить технологии дистанционного наблюдения в систему здравоохранения и позволит широко использовать все преимущества цифровой медицины.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Данная статья подготовлена авторским коллективом в рамках НИР «Научное обоснование моделей и способов организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (№ ЕГИСУ: 123031400008-4) в соответствии с Приказом от 21.12.2022 г. № 1196 «Об утверждении государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт средств бюджета города Москвы государственным бюджетным (автономным) учреждениям подведомственным Департаменту здравоохранения города Москвы, на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Департамента здравоохранения города Москвы.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение поисково-аналитической работы и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: А.Е. Демкина — концепция статьи, написание текста, редактирование текста; А.Н. Коробейникова — набор материала, написание статьи; А.Н. Рогоза — написание статьи, редактирование текста; А.В. Владзимирский — редактирование текста.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This article was prepared by a group of authors as a part of the research and development effort titled “Scientific evidence for using telemedicine-based models and methods for organization and delivery of medical care” (USIS No.: 123031400008-4) in accordance with the Order No. 1196 dated December 21, 2022 “On approval of state assignments funded by means of allocations from the budget of the city of Moscow to the state budgetary (autonomous) institutions subordinate to the Moscow Health Care Department, for 2023 and the planned period of 2024 and 2025” issued by the Moscow Health Care Department.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. A.E. Demkina — the concept of the study, writing the text of the manuscript, manuscript’s text editing; A.N. Korobeynikova — collection of materials, writing the text of the manuscript; A.N. Rogova — writing the text of the manuscript, manuscript’s text editing; A.V. Vladzymyrskyy — manuscript’s text editing.
1 ВОЗ. Глобальное резюме по гипертонии. Безмолвный убийца, глобальный кризис общественного здравоохранения. Женева; 2013. Доступ по ссылке: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/79059/WHO_DCO_WHD_2013.2_rus.pdf [Дата обращения: 13.02.2023]
2 Ушёл и не вернулся: какие ИТ-компании покинули Россию. Доступ по ссылке: https://hightech.fm/2022/05/26/it-companies-went-away [Дата обращения: 1.03.2023]
3 Основные риски в ИТ связана с нехваткой специалистов. Доступ по ссылке: https://rg.ru/2023/02/17/vitaiut-v-oblakah.html [Дата обращения 1.03.2023]
4 В этом году аккредитованных IT-компаний в России стало в семь раз больше. Доступ по ссылке: https://www.ixbt.com/news/2022/10/24/v-jetom-godu-akkreditovannyh-itkompanij-v-rossii-stalo-v-sem-raz-bolshe.html [Дата обращения: 1.03.2023]
5 О рисках, угрозах и отсутствии системности в цифровизации. URL:https://www.infowatch.ru/resources/blog/tochka-zreniya-kasperskoy/o-riskakh-ugrozakh-i-otsutstvii-sistemnosti-v-tsifrovizatsii [Дата обращения: 1.03.2023]
6 Исследование: каждое второе медучреждение из РФ использует оборудование с устаревшей ОС. URL: https://tass.ru/ekonomika/13143911 [Дата обращения: 1.03.2023]
Об авторах
Александра Евгеньевна Демкина
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Email: ademkina@bk.ru
SPIN-код: 4657-5501
канд. мед. наук
Россия, МоскваАнна Николаевна Коробейникова
Центр кардиологии и неврологии
Автор, ответственный за переписку.
Email: anna_best2004@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8934-7021
SPIN-код: 9728-9583
канд. мед. наук
Россия, КировАнатолий Николаевич Рогоза
Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е.И. Чазова
Email: anrogoza@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4829-0954
SPIN-код: 9362-3496
д-р биол. наук, профессор
Россия, МоскваАнтон Вячеславович Владзимирский
Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий
Email: a.vladzimirskiy@npcmr.ru
ORCID iD: 0000-0002-2990-7736
SPIN-код: 3602-7120
д-р мед. наук
Россия, МоскваСписок литературы
- Зудин А.Б., Щепин В.О. Глобальные вызовы для российского здравоохранения // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко. 2016. № 5. С. 41–45. EDN: XWOKVJ
- Бойцов С.А., Демкина А.Е., Ощепкова Е.В., Долгушева Ю.А. Достижения и проблемы практической кардиологии в России на современном этапе // Кардиология. 2019. Т. 59, № 3. С. 53–59. EDN: CJGCQF doi: 10.18087/cardio.2019.3.10242
- Бойцов С.А., Погосова Н.В., Бубнова М.Г., и др. Кардиоваскулярная профилактика 2017. Российские национальные рекомендации // Российский кардиологический журнал. 2018. Т. 23, № 6. С. 7–122. EDN: XSLTTF doi: 10.15829/1560-4071-2018-6-7-122
- Баланова Ю.А., Шальнова С.А., Имаева А.Э., и др. Распространенность артериальной гипертонии, охват лечением и его эффективность в Российской Федерации (данные наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-2) // Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2019. Т. 15, № 4. С. 450–466. EDN: ZRWESV doi: 10.20996/1819-6446-2019-15-4-450-466
- Лебедев Г.С., Владзимирский А.В., Шадеркин И.А., Дударева В.П. Комплекс дистанционного мониторинга при хронических неинфекционных заболеваниях // Российский журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. Т. 8, № 1. С. 7–14. EDN: NMFKNG doi: 10.29188/2712-9217-2022-8-1-7-14
- Николаев В.А. Инновационные технологии персонализированной медицины // Forcipe. 2019. Т. 2, № S3. С. 40–41. EDN: UEPRRX
- Bautista L.E. Predictors of persistence with antihypertensive therapy: Results from the NHANES // Am J Hypertens. 2008. Vol. 21, N 2. P. 183–188. doi: 10.1038/ajh.2007.33
- Paramore L.C., Halpern M.T., Lapuerta P., et al. Impact of poorly controlled hypertension on health care resource utilization and cost // Am J Manag Care. 2001. Vol. 7, N 4. P. 89–98.
- Varma N., Epstein A.E., Irimpen A., et al. TRUST investigators. Efficacy and safety of automatic remote monitoring for implantable cardioverter-defibrillator follow-up: the lumos-t safely reduces routine office device follow-up (TRUST) Trial // Circulation. 2010. Vol. 122, N 4. P. 325–332. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.110.937409
- Sana F., Isselbacher E.M., Singh J.P., et al. Wearable Devices for Ambulatory Cardiac Monitoring: JACC State-of-the-Art Review // J Am CollCardiol. 2020. Vol. 75, N 13. P. 1582–1592. doi: 10.1016/j.jacc.2020.01.046
- Cleland J.G.F., Louis A.A., Rigby A.S., et al. Noninvasive home telemonitoring for patients with heart failure at high risk of recurrent admission and death: the Trans-European Network-Home-Care Management System (TEN-HMS) study // Journal of the American College of Cardiology. 2005. Vol. 45, N 10. P. 1654–1664. doi: 10.1016/j.jacc.2005.01.050
- Пыжлаков Д.С. Сила и возможности. Концепция динамического SWOT-анализа // Российское предпринимательство. 2008. № 6-1. С. 133–138. EDN: JKONSZ
- Lewington S., Clarke R., Qizilbash N., et al. Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular mortality // The Lancet. 2003. Vol. 361, N 9366. P. 1391–1392. doi: 10.1016/S0140-6736(03)13061-9
- Slimko M.L., Mensah G.A. The role of diets, food, and nutrients in the prevention and control of hypertension and prehypertension // Clinical Cardiology. 2010. Vol. 4, N 28. P. 665–674. doi: 10.1016/j.ccl.2010.08.001
- Чазова И.Е., Ощепкова Е.В. Итоги реализации Федеральной целевой программы по профилактике и лечению артериальной гипертензии в России в 2002–2012 гг. // Вестник Российской академии медицинских наук. 2013. Т. 68, № 2. С. 4–11. EDN: PWEBNT doi: 10.15690/vramn.v68i2.542
- McKoy J., Fitzner K., Margetts M., et al. Are telehealth technologies for hypertension care and self-management effective or simply risky and costly? // Popul Health Manag. 2015. Vol. 18, N 3. P. 192–202. doi: 10.1089/pop.2014.0073
- Fitzner K., Moss G. Telehealth-an effective delivery method for diabetes self-management education? // Popul Health Manag. 2013. Vol. 16, N 3. P. 169–177. doi: 10.1089/pop.2012.0054
- Flodgren G., Rachas A., Farmer A.J., Inzitari M., Shepperd S. Interactive telemedicine: effects on professional practice and health care outcomes // Cochrane Database Syst Rev. 2015. Vol. 2015, N 9. P. CD002098. doi: 10.1002/14651858.CD002098.pub2
- Piette J.D., Marinec N., Gallegos-Cabriales E.C., et al. Spanish-speaking patients’ engagement in interactive voice response (IVR) support calls for chronic disease self-management: data from three countries // Telemed Telecare. 2013. Vol. 19, N 2. P. 89–94. doi: 10.1177/1357633x13476234
- Kaambwa B., Bryan S., Jowett S., et al. Telemonitoring and self-management in the control of hypertension (TASMINH2): a cost-effectiveness analysis // Eur J Prev Cardiol. 2014. Vol. 21, N 12. P. 1517–1530. doi: 10.1177/2047487313501886
- Maciejewski M.L., Bosworth H.B., Olsen M.K., et al. Do the benefits of participation in a hypertension self-management trial persist after patients resume usual care? // Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2014. Vol. 7, N 2. P. 269–275. doi: 10.1161/CIRCOUTCOMES.113.000309
- Шадеркин И.А., Шадеркина В.А. Удаленный мониторинг здоровья: мотивация пациентов // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. Т. 6, № 3. С. 37–43. EDN: PBHHKX doi: 10.29188/2542-2413-2020-6-3-37-43
- Wise J. Activity trackers, even with cash incentives, do not improve health // BMJ. 2016. Vol. 355. P. i5392. doi: 10.1136/bmj.i5392
- Jones M.I., Greenfield S.M., Bray E.P., et al. Patients’ experiences of self-monitoring blood pressure and self-titration of medication: the TASMINH2 trial qualitative study // Br J Gen Pract. 2012. Vol. 65, N 595. P. e135–e142. doi: 10.3399/bjgp12X625201
- Shaw R.J., Kaufman M.A., Bosworth H.B., et al. Organizational factors associated with readiness to implement and translate a primary care-based telemedicine behavioral program to improve blood pressure control: the HTN-IMPROVE study // Implement Sci. 2013. Vol. 8. doi: 10.1186/1748-5908-8-106
- AbuDagga A., Resnick H.E., Alwan M. Impact of Blood Pressure Telemonitoring on Hypertension Outcomes: A Literature Review // Telemedicine and eHealth. 2010. Vol. 16, N 7. P. 830–838. doi: 10.1089/tmj.2010.0015
- Chandak A., Joshi A. Self-management of hypertension using technology enabled interventions in primary care settings // Technology and Health Care. 2015. Vol. 23, N 2. P. 119–128. doi: 10.3233/thc-140886
- McKinstry B., Hanley J., Lewis S. Telemonitoring in the management of high blood pressure // Curr Pharm Des. 2015. Vol. 21, N 6. P. 823–827. doi: 10.2174/1381612820666141024154232
- Sivakumaran D., Earle K. Telemonitoring: use in the management of hypertension // Vascular Health and Risk Management. 2014. Vol. 10. P. 217–224. doi: 10.2147/vhrm.s36749
- Концевая А.В., Комков Д.С., Бойцов С.А. Моделирование как метод оценки экономической целесообразности дистанционного мониторинга артериального давления на региональном уровне // Здравоохранение Российской Федерации. 2017. Т. 61, № 1. С. 10–16. EDN: YFOKVP doi: 10.18821/0044-197X-2017-61-1-10-16
- Ho K. Health-e-Apps: A project to encourage effective use of mobile health applications // BCMJ. 2013. Vol. 55, N 10. P. 458–460.
- Исаева А.В., Краснова К.С., Тагоев Ю.Ш., и др. Изучение цифровой готовности пациентов с хронической сердечной недостаточностью // Профилактическая медицина. 2023. Т. 26, № 3. С. 101–108. EDN: DGKTAU doi: 10.17116/profmed202326031101
- Байсангуров А.Ф., Арутюнова Н.Н., Байсангурова М.М. Анализ факторов демотивации, снижающих эффективность работы сотрудников // Digital Diagnostics. 2021. Т. 2, № 2S. C. 10–11. EDN: VGEGJF doi: 10.17816/DD83175
- Davoudi A., Lee N.S., Chivers C., et al. Patient interaction phenotypes with an automated remote hypertension monitoring program and their association with blood pressure control: observational study // J Med Internet Res. 2020. Vol. 22, N 12. P. e22493. doi: 10.2196/22493
- Vandenberk T., Lanssens D., Storms V., et al. Relationship Between Adherence to Remote Monitoring and Patient Characteristics: observational study in women with pregnancy-induced hypertension // JMIR MhealthUhealth. 2019. Vol. 7, N 8. P. e12574. doi: 10.2196/12574
- Case M.A., Burwick H.A., Volpp K.G., et al. Accuracy of smartphone applications and wearable devices for tracking physical activity data // JAMA. 2015. Vol. 313, N 6. P. 625–626. doi: 10.1001/jama.2014.17841
- O’Kane M.J. Efficacy of self-monitoring of blood glucose in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomised controlled trial // BMJ. 2008. Vol. 336, N 7654. P. 1174–1180. doi: 10.1136/bmj.39534.571644.BE
- Walker R.C., Tong A., Howard K., et al. Patient expectations and experiences of remote monitoring for chronic diseases: Systematic review and thematic synthesis of qualitative studies // Int J Med Inform. 2019. Vol. 124. P. 78–85. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2019.01.013
- Мареев Ю.В., Зинченко А.О., Мясников Р.П., и др. Применение телеметрии у больных с хронической сердечной недостаточностью // Кардиология. 2019. Т. 59, № S9. С. 4–15. EDN: ISWIAY doi: 10.18087/cardio.n530
- Omboni S., Ferrari R. The role of telemedicine in hypertension management: focus on blood pressure telemonitoring // Curr Hypertens Rep. 2015. Vol. 17. doi: 10.1007/s11906-015-0535-3
- Gazit T., Gutman M., Beatty A.L. Assessment of hypertension control among adults participating in a mobile technology blood pressure self-management program // JAMA Netw Open. 2021. Vol. 4, N 10. P. e2127008. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.27008
- Комков Д.С., Батурин Д.И., Куликов А.А., и др. Роль SMS-информирования в диспансерном наблюдении пациентов с артериальной гипертензией // Артериальная Гипертензия. 2015. Т. 21, № S1. С. 91. EDN: WEPXLT
- Комков Д.С., Горячкин Е.А., Корсунский Д.В., и др. Клиническая эффективность различных моделей телемедицинских технологий у больных с артериальной гипертензией // Профилактическая медицина. 2020. Т. 23, № 4. С. 27–35. EDN: PMROKX doi: 10.17116/profmed20202304127
- Melnyk S.D., Zullig L.L., McCant F., et al. Telemedicine cardiovascular risk reduction in veterans // Am Heart J. 2013. Vol. 165, N 4. P. 501–508. doi: 10.1016/j.ahj.2012.08.005
- Калинина А.М., Горный Б.Э., Дубовой И.И., и др. Отношение врачей первичного звена к применению телемедицинских технологий при диспансерном наблюдении больных с хроническими заболеваниями (медико-социологическое исследование) // Профилактическая медицина. 2020. Т. 23, № 6. С. 8–13. EDN: TIADWK doi: 10.17116/profmed2020230628
- Wang V., Smith V.A., Bosworth H.B., et al. Economic evaluation of telephone self-management interventions for blood pressure control // Am Heart J. 2012. Vol. 163, N 6. P. 980–986. doi: 10.1016/j.ahj.2012.03.016
- Cuspidi C., Facchetti R., Dell’Oro R., et al. Office and out-of-office blood pressure changes over a quarter of century: findings from the PAMELA Study // Hypertension. 2020. Vol. 76, N 3. P. 759–765. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15434
- Mancia G., Facchetti R., Bombelli M., et al. Long-term risk of mortality associated with selective and combined elevation in office, home, and ambulatory blood pressure // Hypertension. 2006. Vol. 47, N 5. P. 846–853. doi: 10.1161/01.HYP.0000215363.69793.bb
- Stergiou G.S., Salgami E.V., Tzamouranis D.G., Roussias L.G. Masked hypertension assessed by ambulatory blood pressure versus home blood pressure monitoring: is it the same phenomenon? // Am J Hypertens. 2005. Vol. 18, N 6. P. 772–778. doi: 10.1016/j.amjhyper.2005.01.003
- Pickering T.G. Self-monitoring of blood pressure. In: Ambulatory Monitoring and Blood Pressure Variability (Part 1). London : Science Press, 1990.
- Pickering T. Recommendations for the use of home (self) and ambulatory blood pressure monitoring. American Society of Hypertension Ad Hoc Panel // Am J Hypertens. 1996. Vol. 9, N 1. P. 1–11. doi: 10.1016/0895-7061(95)00341-x
- Barochiner J., Posadas Martínez M.L., Martínez R. Reproducibility of masked uncontrolled hypertension detected through home blood pressure monitoring // J Clin Hypertens (Greenwich). 2019. Vol. 21, N 7. P. 877–883. doi: 10.1111/jch.13596
- Myers M.G. Reporting bias in self-measurement of blood pressure // Blood Press Monit. 2001. № 6. P. 181–183.
- Miao H., Liu Y., Tsai T.C., Schwartz J., Ji J.S. Association between blood lead level and uncontrolled hypertension in the US population (NHANES 1999-2016) // J Am Heart Assoc. 2020. Vol. 9, N 13. Р. e015533. doi: 10.1161/JAHA.119.015533
- Jackson S.L., Gillespie C., Shimbo D., Rakotz M., Wall H.K. Blood Pressure Cuff Sizes for Adults in the United States: National Health and Nutrition Examination Survey, 2015–2020 // Am J Hypertens. 2022. Vol. 35, N 11. P. 923–928. doi: 10.1093/ajh/hpac104
- Cepeda M., Pham P., Shimbo D. Status of ambulatory blood pressure monitoring and home blood pressure monitoring for the diagnosis and management of hypertension in the US: an up-to-date review // Hypertens Res. 2023. Vol. 46. P. 620–629. doi: 10.1038/s41440-022-01137-2
- Duan Y., Xie Z., Dong F., et al. Effectiveness of home blood pressure telemonitoring: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled studies // Journal of Human Hypertension. 2017. Vol. 31. P. 427–437. doi: 10.1038/jhh.2016.99
- Бубнова М.Г., Трибунцева Л.В., Остроушко Н.И., и др. Влияние дистанционного диспансерного наблюдения на течение артериальной гипертензии // Профилактическая медицина. 2018. Т. 21, № 5. С. 77–82. EDN: YPHTZJ doi: 10.17116/profmed20182105177
- Schoenhagen P., Mehta N. Big data, smart computer systems, and doctor-patient relationship // European Heart Journal. 2017. Vol. 38, N 7. P. 508–510. doi: 10.1093/eurheartj/ehw217
- Шарова Д.Е., Зинченко В.В., Ахмад Е.С., и др. К вопросу об этических аспектах внедрения систем искусственного интеллекта в здравоохранении // Digital Diagnostics. 2021. Т. 2, № 3. С. 356−368. EDN: TGZGZZ doi: 10.17816/DD77446
- Kario K., Tomitani N., Kanegae H., et al. The further development of out-of-office BP monitoring: Japan’s ImPACT Program Project’s achievements, impact, and direction // J Clin Hypertens (Greenwich). 2019. Vol. 21, N 3. P. 344–349. doi: 10.1111/jch.13495
- Стародубцева И.А., Шарапова Ю.А. Дистанционный мониторинг артериального давления как инструмент повышения качества диспансерного наблюдения пациентов с артериальной гипертензий // Архивъ внутренней медицины. 2021. Т. 11, № 4. С. 255–263. EDN: FTKKTE doi: 10.20514/2226-6704-2021-11-4-255-263
- Карпов О.Э., Храмов А.Е. Информационные технологии, вычислительные системы и искусственный интеллект в медицине. Москва : ДПК Пресс, 2022.
- Булдакова Т.И., Миков Д.А., Соколова А.В. Защита данных при дистанционном мониторинге состояния человека // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Приборостроение». 2020. № 4. С. 42–57. EDN: QHBUUF doi: 10.18698/0236-3933-2020-4-42-57
- Alessa T., Hawley M.S., Hock E.S., de Witte L. Smartphone apps to support self-management of hypertension: review and content analysis // JMIR MhealthUhealth. 2019. Vol. 7, N 5. P. e13645. doi: 10.2196/13645
- Picone D.S., Deshpande R.A., Schultz M.G., et al. Nonvalidated home blood pressure devices dominate the online marketplace in Australia // Hypertension. 2020. Vol. 75, N 6. Р. 1593–1599. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14719
- Jalali M.S., Russell B., Razak S., et al. EARS to cyber incidents in health care // J Am Med Inform Assoc. 2019. Vol. 26, N 1. P. 81–90. doi: 10.1093/jamia/ocy148
- Владзимирский А.В. Систематический обзор применения мессенджеров «Whatsapp» и «Viber» в клинической медицине // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2017. № 1. С. 30–41. EDN: YPTUYR
Дополнительные файлы